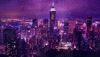Сны, воспоминания и бред персонажа.
Шепот безумия
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22010-02-08 20:35:26
…как сиамские близнецы, сросшиеся душами…
- …я клянусь и обещаю до тех пор, пока смогу это делать, преследовать, раскрывать, разоблачать…
- …если так Бог одевает траву в поле, которая сегодня есть, а завтра её нет, брошена в печь…
- …и в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего…
Голоса. Так много их и каждый сам по себе. Никто никого не слышит, никто никого не слушает. Незачем. Каждый – мир в себе. Каждый – сам себе тюрьма. Каждый – клетка, прутья которой – безумие, боль и отчаяние. Воздух тяжел, как песок, как земля. Пахнет болезнью, пахнет разложением, пахнет мочой и дерьмом – пахнет людьми. Ибо все, кто ныне находится здесь, некогда были людьми. Впервые они вошли сюда отнюдь не жалкими подобиями живого мяса, кое-как держащегося на переломанных костях. Их шаг был тверд, взгляд ясен, а речь исполнена разума. Они все знали, что ожидает их, но никто не верил. А сейчас и верить-то некому…
- …Верую! Верую! Верую!...
- …сочувствующих, пособников и защитников, а также всех тех, о которых я знаю…
- …и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога…
- …Да будет мне свидетелем бог, что я не еретик!...
- ...Верую! Верую! Верую!...
Хор умалишенных. Песнь козлов. И каждый из них – любимое чадо Его, дитя Его любви. Каждый из них стоил смерти Его Сына, стоил гвоздей в Его распухших ступнях и ладонях, стоил судорог измученного голодом, жаждой и побоями тела, стоил Его крови, Его боли, Его отречения. Святые отцы, Глас Божий на земле - ведают ли, что творят? Ведают ли, что произносит их собственный лживый язык? Пастыри заблудших овец Его… Смех неуместен, но он рвется наружу, в кровь сдирая высушенное криками горло. Давит внутри болью искрошенных ребер при каждом вдохе, вырождаясь едва слышными хрипами на искусанных в лохмотья губах. Пастыри… Вот оно, ваше стадо, поле коему – четыре стены, расположенных так близко друг к другу, что двоим-то возможно уместиться лишь скрючившись. А их тут пятеро. Ноги чудовищно согнуты, вывернуты под немыслимым углом плечи и локти. Истекшие слюной, кровью и соплями лица, давно ставшие уродливее звериных морд, утыкаются в чьи-то горячие влажные животы, бедра и груди. Потолок от земли - на два человеческих торса. И единственный выход – дыра наверху, которая открывается лишь по мановению холеной руки кого-то из слуг Великого. А воздух с каждым мгновением все тяжелее. Воздух – смрад, спаявший в себе тяжелую вонь испражнений, перегнившего мяса и застарелого пота. Врастает в ноздри, затекает в глотку, ползет червями по гортани. Воздух здесь – яд…
- …их тайных посланцев, в любое время и всякий раз, когда обнаружу их…
- …и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во отпущение грехов…
- …ищите прежде всего Царство и его праведности, а всё необходимое также будет дано вам…
- …я невиновен и я никогда не исповедовал другой веры, кроме истинной христианской…
Ни вздохнуть, ни крикнуть. Пленники собственных искореженных тел, обреченные на долгие годы забвения. Выть, мычать, кричать от невыносимой боли заживо гниющих ран. Лакать безумие из взглядов тех, кто отныне стал единым телом о пяти головах. Снова и снова повторять охрипшими сорванными голосами слова, навсегда утратившие смысл. Жрать собственное дерьмо, пока не умрет кто-то еще и не настанет долгожданная возможность разделить его плоть. Люди, те самые, чей шаг когда-то был тверд, взгляд ясен, а разум светел, вцепятся остатками зубов в еще не остывшее тело, чтобы принять свое причастие.
- … Верую!...
Кровь от крови, плоть от плоти.
- … клянусь и обещаю!...
Дети Его любви, возлюбленные чада святой Церкви.
- … ваш небесный Отец знает, в чём вы нуждаетесь...
Жалкие безумцы, позволившие себе непростительную роскошь поверить в себя и в чужую человечность.
-… Верую!.. Клянусь!... Верую!...
Голоса… Так много и так мало. Они никогда не смолкают. Они просто не могут молчать…
-…ВЕРУЮ, ГОСПОДИ!...
Он не мог кричать. Кровь пузырилась на губах, с булькающими всхлипами вытекая из сведенной судорогой глотки. Она толчками выплескивалась из ноздрей, кривыми росчерками стекая по щекам. Андраш не мог дышать, потому что кровь, холодная, почерневшая, мертвая, залила дыхательные пути, густой вязкой жижей склеила челюсти, клокотала в легких. Он задыхался, но не умирал. Лич не мог умереть, пока цел и невредим его филактерий. Спазм за спазмом скручивали его тело, простыни сбились в единый ворох черного шелка, уже порванного во многих местах его острыми ногтями. Часы, дни или недели? Андраш не смог бы сказать точно, сколько длилось это безумие. Лично для него это была вечность. Чужая вечность, некогда в качестве дикого эксперимента украденная им самим. Чужие ощущения в эти мгновения вплавлялись в память самого неумершего мага. Андраш терял себя, отдаваясь на волю сотворенного им самим проклятия. Запах крови, вкус крови – его или моей? - искаженные лица, изувеченные тела, чудовищная теснота. Лич не просто «увидел» это его глазами. На какое-то время он сам стал частью всего этого. Болезненно. Тяжело. Невыносимо. В основном потому, что бредовое послание живого филактерия обретало формы того, что некогда пережил сам неумерший маг. А кровь останавливалась очень медленно, словно нехотя. И душные тиски безумия разжимались со скрипом, в очередной раз отпуская разум лича. Когда освобождение пришло, Андраш, еще не вполне оправившийся от приступа, медленно сел на разоренной постели. Головокружение, тошнота и удушье не повлияли на мгновенно принятое решение. Как не мог повлиять и разум, потому что воспаленное сознание лича не желало принимать того факта, что виновник произошедшего - всего лишь несчастный юродивый, не понимающий произошедших с ним изменений. Это было не важно, по крайней мере, сейчас.
Губы лича дрогнули в перекошенной усмешке. Хочешь повеселиться, хороший мой? Ну чтож, лови ответ. Жаль только, что ты его не оценишь. Сухой, хриплый, издевательский смех рванулся из груди в тот момент, когда первые искорки боли только зародились под кожей Андраша. Он знал, что делал. Он знал, чего хотел. И через несколько секунд, повинуясь железной воле неумершего мага, вся пережитая им боль, все принятое безумие единым потоком хлынуло назад к виновнику его недавних мучений. Губы лича – сейчас просто лохмотья мяса на практически полностью оголенной челюсти – дрогнули, и во тьму сквозь время полился ядовитой патокой мягкий проникновенный шепот, несущий в себе чуть заметное дрожание еще не утихшего смеха:
- Верую, Господи…
Поделиться32010-02-11 00:55:09
На многие мили вокруг ни осталось ничего живого. Пожухлая от невыносимого зноя трава грязно-желтыми проплешинами покрывала землю. Листья высохли на деревьях, и голые ветки тянулись к небесам, как скрюченные в агонии пальцы прокаженного. Трупы животных темными пятнами выделялись на омертвевших полях. Подальше от города жизни было немного больше, но и там, в большинстве своем, царила смерть, имя которой было – Черный Мор. Чума пришла в город царственной гостьей, не требуя ничего, но получая все даром.
Андраш шел по опустевшей улице, теснота которой давила, как и жара. А воздух был пропитан едким дымом, полным запаха горелой плоти и костей. Лич не спешил, двигаясь к своей цели привычно размеренным шагом. Диким контрастом среди всеобщего разорения и тлена выделялся его девственно белый кафтан-халат, не взирая на жару застегнутый наглухо. Редкие лучи солнца сверкали на жемчужной вышивке черных шаровар, отражались от серебряной оправы больших круглых ониксов, цепью охвативших его бедра. По одной из очередных прихотей, Андраш был босым. Его ступни по щиколотку тонули в горячей скользкой мути отходов человеческой жизнедеятельности, которые горожане вываливали сюда на протяжении долгого времени. В городе царила чума, а на улицах пировали мухи. Черные тучи жадных насекомых в эти страшные для человечества дни переживали свой золотой век. Впрочем, личу они не мешали. В безмолвии опустевшего города не слышалось характерного постукивания трости, потому что на этот раз роль проводника для слепого мага играло нечто иное - гончие. Некогда бывшие людьми, эти существа претерпели ряд чудовищных изменений, став итоговым воплощением одного из хирургических экспериментов Андраша. Они скользили рядом со своим создателем, туго натягивая цепи, сращенные с их позвоночниками в районе затылочной впадины. Их стальные намордники раскалились на солнце до невозможно высокой температуры. Острые крючья буквально вварились в белесую кожу, привычно широко распяливая челюсти уродцев. С хрипом втягивая воздух, вывалив неестественно длинные языки, гончие преданно исполняли то, для чего были предназначены – вели своего создателя к указанной цели.
Когда улица закончилась, вливаясь в небольшую площадь, Андраш остановился, прислушиваясь к собственным ощущениям. Нервы звенели от сосущего чувства узнавания – лич не ошибся. Сквозь невыносимую вонь больного города пробивался его запах. Где-то здесь, возможно близко, затихал шорох его шагов. И незримым клеймом повсюду отпечаталась его боль. Томас… Мой потерянный брат… Глухо звякнули цепи, выскользнув из вечно окровавленных пальцев неумершего, свернулись на загаженной земле дохлыми змеями у его босых испачканных отбросами ступней.
- Ищите.
И троица гончих, до того с неистовой ласковостью льнувшая к ногам своего создателя, подчинилась мгновенно. Они не побежали – заскользили, нелепо извиваясь на немыслимо худых, неестественно длинных руках и ногах, передвигаясь на четвереньках, как животные. Их содранные до мяса колени и локти оставляли на пыльном камне площади темный след – кровавые сгустки и лохмотья кожи. Уродцы двигались на удивление быстро и уже через несколько секунд исчезли, затерявшись среди покинутых людьми домов. А лич, замерший в ожидании, остался слушать город. Во тьме, рожденной преградой выжженных глазниц, оживали истории, нашептанные чужой болью. Отражались от стен давно затихшие стоны и безумные крики. Призраками носились в задымленном воздухе чужие сны, сотканные страхом и безысходностью. Попискивали крысы, а где-то далеко, на одной из извилистых улиц посвистывала плеть. Сливаясь с шелестом шагов, сорванный старческий голос выкрикивал призывы к покаянию, смешные среди царящего кругом праздника смерти.
- Шавка Христова, - гримаса омерзения мелькнула на лице лича, когда он чуть ли не выплюнул эти два коротких слова.
А в темноте тем временем оживали новые детали. Запах болезни, запах тел, гниющих заживо. Он приближался – медленно, осторожно, - как и те, кто были его источниками. Тонкие ноздри Андраша трепетали, вбирая яркую смесь ароматов чужого страдания. Он знал, что они уже близко, но не двигался с места. А они, трое или четверо, - тени на самой грани жизни, - помедлив мгновение, молча рванулись к нему, как безумные. Слепой маг не сопротивлялся их высохшим рукам, цеплявшимся за его собственные руки, ноги и одежду. Он не отстранялся от их жадных запекшихся губ, которые быстрыми вороватыми поцелуями покрывали его кисти, лицо и шею. Эти люди льнули к нему так же, как совсем недавно это делали гончие, вжимаясь в него собственными грязными, гниющими заживо телами. Андраш чувствовал, что эти сломленные болезнью безумцы хотят лишь одного – отравить поразившим их ядом того, кто казался им здоровым. Страх лишил их разума, отчаяние толкало на сумасшедшие поступки.
- Дети мои, - такие худые и хрупкие на вид пальцы слепого мага с невыразимой нежностью касались чужих волос, слипшихся от пота и грязи, скользили по лицам, в прикосновении даруя сознанию изломанные страданием черты, - возлюбленные дети мои…
Словно подстегнутые голосом лича, чумные взбесились еще больше. Бормоча что-то неразборчивое, они обвивали его высокую статную фигуру, с яростью отпихивая от него своих же собратьев. Казалось, им хотелось врасти в неумершего, впитать кожей холод его тела, всласть надышаться его запахом и самим его присутствием. Им хотелось забрать его с собой. Что же касается Андраша, то его желания носили несколько иной оттенок. А в тот момент, когда совсем молодая девица, укутанная в лохмотья некогда дорогого и красивого платья, смогла дотянуться до его губ, рука лича метнулась к ее голове, пальцы вплелись в волосы, удерживая ее с неожиданной силой. Его губы раскрылись на встречу смрадной дыре ее влажного рта, чтобы в следующую секунду превратить поцелуй в нечто много большее – в акт поглощения, в дар свободы. Зубы Андраша впились в мякоть ее губ, вгрызлись в податливую плоть настолько глубоко, что чумная давилась криками и кровью. Сила лича рванулась по венам, оживляя его мертвую кровь той жизнью, что сейчас покидала его жертву. Глаза девицы лопнули, мутной слизью стекая по щекам. Кожа ее стремительно темнела, осыпаясь тленом, обнажая синие вздутия вен на буром сплетении мышечных волокон. Она таяла на глазах, обращаясь в ничто, в гниль, в прах. И тех, кто касался ее в этот момент, тех, кого касался другой рукой сам лич, постигала та же участь. Единственный чумной, оставшийся в живых, с пронзительным визгом кинулся прочь. А слепой маг усмехался окровавленными губами. Он знал, о чем думал спасшийся бродяжка. Нет, я не дьявол, мой хороший. Зря боишься.
- Покайтесь, несчастные! Господь покарал град сей за грехи ваши! Никому не избежать Его гнева! Покайтесь же, пока есть время!
Бродячий проповедник. Его голос, скрипучий и режущий слух, слился с тонким посвистом плети, которой старик с завидной неутомимостью хлестал собственную спину. Где-то неподалеку взвыли гончие, нашедшие нужный дом. Андраш слышал лязг железа и влажные звуки разрываемой плоти. Ему не нужно было видеть, чтобы понять, что его любимцы, выполнившие свой долг, сейчас пожирали стражника, вытягивая кишки из лат, как мясо из устричной раковины. Жизнь - это фарс, который не кончается никогда…
В объятом чумой городе слепой маг шел на зов своих гончих, и его трость мерно постукивала о раскаленные булыжники мостовой. Покинутые дома бесстрастно наблюдали за ним пустыми глазницами выбитых окон. Взывая к покаянию, бродячий проповедник, не глядя, ступал по скользкой гнилой жиже - тому, что осталось от убитых личем бродяжек. Розжравшиеся крысы в компании целого роя насекомых пировали на трупах обласканных чумой людей, брошенных родственниками прямо у дверей их домов. Жизнь в почти опустевшем городе, как и прежде, текла своим чередом.
Поделиться42010-02-23 18:04:19
…Это тобою пролитая кровь моя льется дорогою
дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни… (с)
В. Маяковский
Старик сжался в углу. Сидел, прижимая остатки коленей к груди, и мелко трясся. Глухие рыдания прерывались сдавленными стонами. И когда открылась решетка, он не поднял головы. Не отреагировал на шорох удаляющихся шагов брата-привратника, только сжался еще сильнее, словно хотел врасти в сочащиеся сыростью стены, да попытался унять рыдания. Не смог. Завыл как животное, протяжно и глухо, не открывая глаз, не поднимая лица.
- Посмотри на меня.
Легкое движение воздуха коснулось старика неуловимым запахом ладана и крови, и он скрючился еще сильнее.
- Подними голову и посмотри на меня.
Невозможно худые пальцы с раздутыми болезнью суставами сжались в кулаки, а в следующее мгновение пленник поднял голову, чтобы исполнить приказ. Скользнул полубезумным взглядом по подолу черной сутаны, по белым холеным кистям с зажатыми в них четками, до строгого лица и тусклых грязно-зеленых глаз. Глаз его родного сына, бывших точной копией его собственных во всем кроме взгляда, горящего совсем другим безумием.
Отец… Ты же помнишь, как звякала цепь, когда ты снимал ошейник? Как горела натертая железом кожа, как от жажды распухал язык - распухал настолько, что даже кричать было невозможно. А я хотел кричать, знаешь? Но смирение было высшей добродетелью, а крик – недоступной роскошью. И я молчал. Когда полз за тобой на четвереньках, вот как ты сейчас поползешь за мной, я молчал. Когда впервые увидел ту собаку, когда услышал ее рычание, когда ты сказал, чего мне ждать, я тоже молчал. И потом, когда ее когти и зубы разрывали мою спину и плечи, самую малость не дотягивая до горла, - и тогда тоже. И после, когда пришло время людей, я по-прежнему молчал, хотя люди были хуже собак, отец. Значительно хуже. Я хрипел молитвы, я выскуливал покаяние, как ты и хотел. Я мечтал не о рае, не о Боге и даже не о смерти. Я бы убил тогда за одну-единственную возможность открыть рот и закричать так громко, чтобы лопнули глаза. Но я молчал, потому что такова была твоя воля. Ты ненавидел слабость, духа ли, плоти ли, и вот теперь… Теперь ты пожинаешь посеянное тобой, отец.
Изрезанное морщинами лицо старика вдруг исказилось, сморщилось. В покрасневших слезящихся глазах вспыхнула искра узнавания. Оттолкнувшись от стены, пленник упал на усыпанный гнилой соломой пол. Всхлипнул, оперся локтями о грубые камни и пополз вперед. Изувеченные на допросах ноги не позволяли ему двигаться как-то иначе. Слезы боли застилали глаза, но он упорно продолжал ползти, оставляя за собой два размазанных бурых следа.
А потом сжимал в пальцах подол сутаны сына, как последнюю надежду. Трясся, плакал, мычал что-то нечленораздельное, до тех пор, пока не оказался отброшенным на пол одним презрительным пинком. И в следующую секунду, тихо звякнув, перед ним упало что-то блестящее и маленькое. Трясущиеся пальцы несмело коснулись отточенной стальной пластины и тут же отдернулись, словно обжегшись. Нож. Старик знал, что такие вещи ему трогать нельзя. Это могло быть очередной ловушкой и если он попадется, то расплата не заставит себя ждать. Поэтому он просто сидел, тихонько всхлипывая, не в силах оторвать взгляда от поблескивающего на гнилой соломе стального перышка.
- Давай же, отец, покажи мне смирение. Покажи, если хочешь умереть до заката…
Голос, когда-то такой знакомый, но давно уже ставший чужим, утихал, а старик все сидел неподвижно, словно вдруг перестал понимать значение слов. А потом вздрогнул, решившись, сжал рукоять ножа в ладони. Открыл рот и, встретившись взглядом с холодными тусклыми глазами, поднес сверкающее лезвие к языку. Чужой кивок – и крик, пронзительный, срывающийся, дикий, сорвался с губ пленника, когда, повинуясь его собственной воле, отточенная сталь с легкостью вспорола мягкую плоть. Кровь пузырилась в уголках запекшихся губ, текла по морщинистому подбородку, а старик все кричал и кричал, чтобы через несколько минут протянуть сыну дрожащей рукой отрезанный язык.
А он - тот, кто всего через пару лет лишится глаз на главной площади города посреди жаждущей крови толпы, - он, сейчас просто сын своего отца, нагнулся к пленнику, взял заплаканное окровавленное лицо в ладони и с непередаваемой нежностью, насквозь пропитанной ядом, прошептал:
- Я солгал. Тебя признали лжекающимся. Допросы продолжатся этой ночью. Смирись…
Еще много часов после ухода сына старик просидел в прострации, неосознанно сжимая в одной руке остывающий кусок мяса, некогда бывший его языком, а другой с маниакальной тщательностью стирая со лба незримый след прощального сыновнего поцелуя.
Отредактировано Андраш (2010-02-23 18:07:21)
Поделиться52010-02-25 20:07:43
…Палач — это извращение нормального убийства.
Палач — как проститутка, делает то, за что заплачено.
Трахаться за деньги еще можно,
но убивать надо по любви, по большой любви… (с)
Не спрашивай о том, чего не хочешь знать. Не спрашивай о том, что уже знаешь. Не надо. Не стоит. К тому же есть вероятность того, что тебе ответят. И, быть может, ответят искренне. Пути назад? Выдумка. Не верь – обманешься. Какие пути? Какое «назад»? Особенно теперь.
Давай же, открой глаза. Посмотри на себя, ведь моего голоса тебе мало. Ты все еще надеешься, я чувствую. От тебя пахнет надеждой даже сильнее, чем кровью. И этот запах, он такой яркий. Свежий. Он мне пригрезился, как, впрочем, и тебе. Но ты еще не знаешь, еще не понял.
Открой глаза, ну же. Не вынуждай меня тебе помогать, потому что тебе не понравится моя помощь. Ты снова будешь кричать, рвать тишину, разбивать осколками. Мне нравится твой крик, в нем столько искренности. Но сейчас я хочу тишины. Поэтому давай, сделай это сам, открой глаза. Ведь это так просто. Не сложнее, чем задать вопрос – простой вопрос – тому, на кого тебе даже смотреть-то не следовало.
Такой живой, такой порывистый… был. И был бы впредь, если бы смог сдержаться. Но ты не смог. И это хорошо, потому что теперь ты не подвластен времени. Твоя красота с этого мгновения и навсегда – вечна. Ты так просил о ней, об этой вечности. Ты так боялся старости. Не смерти, я чую такой страх. Смерть для тебя ничто, была ничем, но старость… Это гораздо хуже, правда? Плывущие черты, размытые в плену дряхлеющей кожи. Опухшие глаза под тяжестью набрякших век. Улыбки больше нет, как нет зубов, как нет волос, как нет и жизни. Ты думал так? Я знаю, думал. И вот теперь…
Дрожишь. Смешной… Зачем? Ведь ты же понимаешь, я не успеваю. Вот эти несколько минут – они есть то, что нам осталось. Ну да, я мог бы отбросить все только затем, чтобы еще хоть раз коснуться твоего лица – прекрасного уже совсем иначе. Я мог бы забыть обо всем ради того, чтобы вобрать в себя твой вкус, слизнуть твой судорожный вздох, застывший в уголках изломанного рта. Я мог бы потерять себя, приникнув к обнаженным венам, вгрызаясь в нежную упругость твоих мышц - жадно, ненасытно… И ты ведь помнишь? Мои поцелуи всегда до крови. И было время, когда тебе это нравилось. Ну а сейчас…
Ты знаешь, я должен был уйти еще вчера. Но ты успел. Успел застать, успел пленить, успел увлечь. И мне хватило этого с лихвой, чтобы сделать тебе подарок – то, о чем ты так просил. Твоя красота… Теперь – вечная.
А если ты не доживешь до утра, умерев от боли или потери крови, то это уже не страшно. Твое желание исполнено, свет мой. Я дал тебе то, что смерть не сможет у тебя отнять. Ни смерть, ни старость, ни что-то или кто-то другой.
Взгляни же. Пусть не глазами, смотри как я – прикосновением. Так будет даже прекраснее. Ближе. Интимнее. Ты чувствуешь? На кончиках пальцев, под тенью ладоней – живет, оживает по-новому. Высокий чистый лоб и крошечная впадинка шрама над левой бровью – знакомо? А тонкий нос, изгиб немного пухловатых губ – ты помнишь? Я столько раз воссоздавал все это в вечной тьме, что вспомню где угодно. В любом виде, в любой интерпретации. Но ты так не привык. Ты видел это все иначе. Еще не понял?
Нет-нет, не бойся - всего лишь маска. Держи, согрей в ладонях. Пусть оживет в последний раз, пусть вспомнит то тепло, с которым некогда была неразделима. Касайся – снова, снова, снова. Вбирай в себя каждую линию, каждую черточку. Вбирай, пока не вспомнишь, не поймешь, что эта мягкая упругость, эта шелковая нежность, - не ткань, все верно. Твоя кожа.
Ну вот и все, свет мой. Кричишь? Кричи. Мне нравится твой крик, он искреннее слов. А я же говорил, не спрашивай о том, чего не хочешь знать. Не спрашивай о том, что уже знаешь. Не спрашивай и не проси, ведь могут и ответить, могут подарить. Вот как сейчас. Ты представлял это иначе, знаю. Но что поделать? Жизнь – игра…
Поделиться62010-04-07 01:20:17
Он стоял на коленях, стараясь быть совершенно неподвижным, но утро только вступило в свои права, и пока было довольно прохладно, так что время от времени он поеживался, чувствуя, как по коже бегут мурашки, а крошечные волоски на руках становятся дыбом. Не самое приятное ощущение, но ему сейчас казалось, что так даже лучше. Прохладный воздух, напоенный запахами ладана и утренней свежести, не позволял уплыть в сон.
Он ждал молча, терпеливо и покорно. Он знал, что тот, кто придет, должен будет очистить его, потому что Великий наложил на него епитимью. Слово это до сих пор оставалось для него незнакомым. Оно казалось скользким и просачивалось сквозь зубы, как сырое мясо устриц, которое они с сестрой когда-то высасывали из твердых раковин, сидя на белом песке и глядя на то, как ленивые волны разбиваются о берег. Это слово произносили здесь часто, как и многие другие, такие же чужие слова. И если бы не Великий, он бы не обращал на них внимания, однако ему было велено учиться не только запоминать их, но и понимать. И он учился. Так же покорно и терпеливо, как и ждал сейчас.
Шелест чужих шагов заставил его вздрогнуть, выплыть из липкого плена грез.
- Ты готов, сын мой?
Ожидание подошло к концу и этот грубоватый, обманчиво ласковый голос он ощутил всей кожей оголенной спины.
- Да, отче. Готов.
Собственный еще не окрепший, ломающий голос, уже не детский, но еще не мужской, показался ему чужим. Он облизнул пересохшие губы, тоненькая морщинка на миг возникла меж угольно черных бровей, но почти тут же исчезла. Он был дикарем - «зверенышем», как называли его все те, кто населял это место. Но в свои неполные пятнадцать этот дикарь уже владел собой получше многих. И когда пришедший монах поднял его голову, двумя пальцами надавив на подбородок, то увидел лишь то, что и должен был увидеть: безмятежно спокойное лицо, строгостью черт больше напоминавшее маску, искусно вырезанную из белой кости. Лицо уже не ребенка, но еще далеко не мужчины, по всем канонам лицо красивое, но и отталкивающее одновременно. Монаху он не нравился, он не нравился никому здесь, кроме Великого. И он знал об этом, и это было ему безразлично. Почти безразлично.
- Хорошо, сын мой. Тогда начнем.
Он не пошевелился, когда пришедший шагнул ему за спину. Не передернулся, когда огрубевшие, покрытые мозолями ладони коснулись его обнаженных плеч, перекидывая на грудь непозволительно длинные, угольно-черные пряди. Он старался дышать ровно и размеренно, хотя страх на миг сдавил гортань, полыхнул в груди неожиданно жарко, рванулся, царапая горло, к губам, в стремлении сорваться с них предательским всхлипом. Но он сдержался. Задавил неуместный порыв привычным усилием воли, однако избавиться от страха так и не смог. Потому что, хотя он и не знал, что такое епитимья, но был прекрасно осведомлен о том, что такое покаяние. Его отец хорошо постарался для того, чтобы сын надолго это запомнил.
А когда в следующую секунду холодное лезвие коснулось его спины чуть повыше лопаток, он сжал кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Болезненный стон потек в рот, толкнулся в губы вязким и солоноватым привкусом крови, но так и умер нерожденным. Лезвие скользнуло ниже, щиплющей болью вырисовывая в сознании тот узор, что монах выводил на его коже, и он заставил себя расслабиться, разжать пальцы и выдохнуть. А потом разомкнул побелевшие губы и в разбавленную птичьим щебетом тишину полился тихий шепот:
- Confiteor Deo omnipotent, beatae Mariae semper Vrgini, beato Michaeli Archangelo, beato loanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres , quia peccavi nimis cogrtatione, verbo et opere…
Он говорил очень медленно, заканчивая каждое слово точно тогда, когда монах вырезал его на бледном холсте его кожи. Боль очерчивала эти слова, значения которых он пока не знал, но уже знал их образы. Он закрыл глаза тогда, когда лезвие впервые коснулось его спины, и теперь, за темной завесой сомкнутых век символы этих слов вспыхивали болезненно красным.
- …mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…
Епитимья или покаяние - теперь он знал, что разницы между ними нет. В его понимании что одно, что другое было наказанием за те поступки, которые не нравились тем, кто был сильнее. Сейчас он знал, что Великий таким образом наказывал его за молчание. Но это было терпимо. Он мог бы даже сказать милосердно по сравнению с тем, как отец наказывал его за любовь. А боль стала привычной, почти родной. Он уже знал, что так всегда и бывает. Любая боль, длящаяся достаточно долго, со временем становиться родной. Текли секунды, отмеряемые все большим количеством горячих струек, бегущих по спине. Лезвие, ведомое твердой рукой монаха, вырезало букву за буквой, слово за словом, и он произносил их все так же четко и ровно:
- …Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum loannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen…
Обнаженный по пояс, он стоял на коленях, и спина его, некогда ровная и белая, теперь побурела от крови. Отошедший монах, по-прежнему сжимавший в ладони нож, любовался своим творением, а он молчал, сохраняя на лице маску смирения. Но в коленопреклонной фигуре, еще тонкой и по мальчишески хрупкой, пробиваясь сквозь флер мнимой покорности, сквозила истинная, пусть и скованная, суть – дикая сила, пробужденные зачатки неистового, мятежного духа, полностью задавить которые не удастся даже Великому. Монах видел это, чувствовал, и лицо его кривилось в презрительной гримасе. А сверху, с противоположной стены пустыми мраморными глазами на них взирал навечно прибитый к кресту Христос, Agnus Dei, символ любви распятой – безразличный в своей неистребимой скорби, бесстрастный в свой неумолимой праведности…
…Пройдет чуть больше пятнадцати лет, и оставленные стальным перышком следы, к тому времени уже просто тонкие белые шрамы, сотрет смерть, сотрет навсегда. Но останется память. И даже после нескольких столетий предстоящей ему нежизни, о которой он сейчас не имеет ни малейшего понятия, он будет помнить – и это утро, и Великого, и то, что предшествовало всему.
Отредактировано Андраш (2010-04-07 01:26:40)
Поделиться72010-04-10 18:57:38
…Ты – мое солнце, я – твоя полночь…(с)
Поле, покрытое истерзанной травой, смятой копытами лошадей и людскими ногами. Земля, обнаженная в подпалинах потухших костров, оскверненная следами жизни тех, кто так жадно припадал голодными ртами к ее израненным сосцам – земля-мать, избитая, затоптанная собственными детьми. Вырванная трава – пласты содранной кожи, ободранные деревья – сломанные пальцы, темная лента дороги – вскрытая вена. Земля-мать, плачущая голосом ветра в ночи о детях своих, земля-мать, ищущая утешения у мертвой луны, языками бледного света зализывающей ее раны. Земля-мать – это Лунный Путь, дорога тех, кто обречен на свободу…
Она была одной из многих – очередная тень в бесконечной череде лиц и судеб, оставивших свой след в его памяти. Но ее след был настолько призрачным и незаметным, что сейчас он даже не мог вспомнить ее имени. Патрина? Тсера? Мирела? Не важно, не значимо. И эта безымянная цыганка, мертвая кукла, - мягкая, синеющая, с бесстыдно раскрытым разрезом на тонкой шее, - всего лишь тень, одна из многих.
Он стоял к ней так близко, что волосы ее, спутанные, слипшиеся от крови и грязи, обвивали его ступни. Он смотрел в ее лицо, которое помнил значительно лучше имени, выбеленную лунным светом маску, - застывшее страдание, замерший страх, - и улыбался. Он помнил, как эти губы, теперь посеревшие, чуть приподнятые над влажно поблескивающей полоской белых зубов, шептали ему о Лунном Пути – дороге свободных, тех, кого Бог любил так сильно, что подарил им весь мир, а не привязал к одному клочку земли, как всех других. Он помнил, как в теплом шорохе смятых простыней она прижималась к нему горячим, гибким телом и шептала о проклятии, поразившим ее племя на этих землях. Он помнил, как вспыхивали в дрожащем сумраке ее глаза, черные, влажные, истинно цыганские глаза, когда она говорила ему о том, как пропадают все новые и новые девушки ее рода, как их находят на обочинах дорог, изувеченными настолько, что узнать становится почти невозможно. Ей было страшно, а он успокаивал ее, улыбаясь в темноту и зная, что она не увидит этой улыбки. Эта мертвая цыганка, безымянная девка с перерезанным горлом, считала, что ее сестер забирал Дьявол. Он мог с ней согласиться и соглашался, потому что очень хорошо знал этого «дьявола», знал с самого детства, знал, как самого себя…
…Ее руки, холодные и липкие от остывающей крови, скользнули на его плечи тогда, когда с неба упали первые капли начинающегося дождя. Она подошла к нему со спины, как и всегда неслышно, обнимала так, словно извинялась, но в ее голосе, тихом-тихом, не было и намека на вину.
- Сожалеешь?
- О ней? – его улыбка обозначилась четче, а пальцы скользнули по ее запястью, размазывая темную кровь убитой цыганки, - А если бы сожалел? Если бы ты знала об этом заранее, ты бы сохранила ей жизнь, Ампэро?
- Нет, - ее тонкие, гибкие руки сильнее сжали его плечи, - Она получила то, что хотела: тебя. А потом меня. Мы неразделимы и неважно, что она об этом не знала. Все просто – она, как и другие, заплатила за то, что сунулась туда, где нет места никому, кроме нас с тобой, брат…
Он ничего не ответил ей, стоял молча, по-прежнему поглаживая ее запястье. А потом поднял ее руку к лицу и коснулся губами окровавленной кисти. И она улыбнулась в темноту, улыбнулась луне, четвертушке новорожденного месяца, выскользнула из-за его спины, шурша примятой травой. Остановилась рядом с трупом, глянула в пустое лицо мертвой девки, в глазницах которого уже начала собираться дождевая вода, и скривилась.
- Даже в смерти не желает тебя отпускать, - прошипела насмешливо и немного злобно, носком изящной туфельки откидывая пряди волос покойницы с его ног, - Чертова кукла…
А он улыбался, глядя на нее. Улыбался тепло, нежно и чуть снисходительно, такой улыбкой, которую не дарил больше никому в своей жизни. И улыбка эта не исчезла даже тогда, когда она, бросив на него лукавый взгляд искоса, чуть приподняла юбки и с силой наступила на лицо убитой цыганки. Хрустнули тонкие кости, с мокрым треском, тихим, но отчетливо различимым в ночной тишине, нос покойницы превратился в месиво, размазанное по белым щекам.
- Покойся с миром, бесовка, - прошептала она, легким пинком отворачивая голову убитой в сторону.
А потом прильнула к нему, коснулась его губ кончиками пальцев, желая стереть следы чужой крови, но только размазала их еще больше.
- Безумная, - его шепот, восхищенная нежность, коснулся ее ладони, растекся на коже, исчезая вместе с остывающим дыханием.
А дождь все усиливался, шуршал в кронах деревьев, разбивался о взрытую копытами лошадей и тележными колесами землю. Дождь водной пылью оседал в их волосах, одинаково черных, поблескивал в призрачном лунном свете. Дождь ласкал их лица, непролитыми слезами стекал по щекам мертвой цыганки, в нелепой позе распластавшейся у их ног. Дождь был холоден и недолговечен, дождь был таким же мимолетным и призрачным, как жизнь то ли Патрины, то ли Тсеры, то ли Мирелы – цыганской девки, когда-то рассказавшей ему о том, что она называла Лунным Путем - дороге изгоев, тех самых, которых Бог любил настолько, что подарил им весь мир…